О творчестве Льва Саксонова
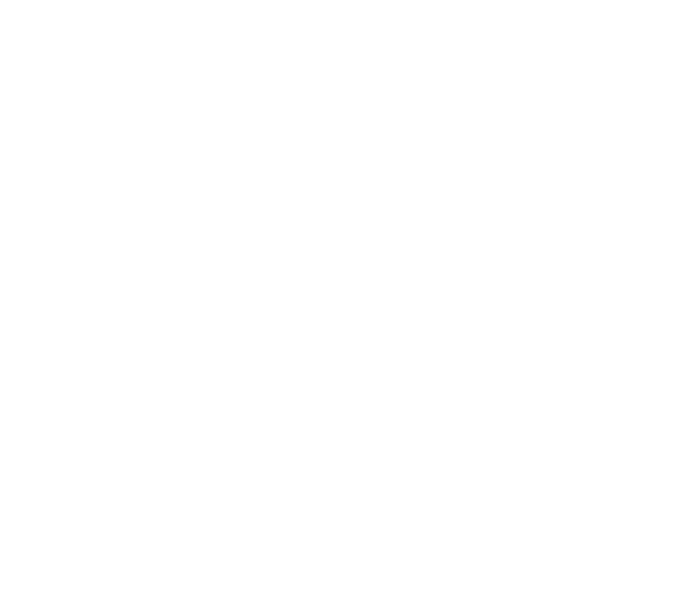
Анна Пожидаева
Саксонов и Данте: великий текст как среда и поверхность
Как можно – и можно ли проиллюстрировать великий поэтический текст и при этом полностью избежать повествовательности, «литературщины» образного ряда? Традиция иллюстрирования Данте – от миниатюр XIV века до цикла рисунков Сальвадора Дали – крайне разнообразна, но всегда связана с характерными, в разной степени реалистичными, но всегда узнаваемыми образами. Цикл Льва Саксонова представляет собой опыт принципиально иного подхода к тексту Божественной Комедии.
Льву Саксонову-читателю с Данте очень повезло. Он воспринял текст Божественной Комедии просто, непосредственно, без предварительной подготовки, с чистого листа, и сознательно не интерпретировал, не нагрузил ничем, кроме общечеловеческого опыта: «Я думаю, что и ад, и рай Данте – это земные реалии: и взрослые бывают беспредельно счастливы (редко, конечно), и дети… живут в раю: они открывают мир, они чувствуют себя защищенными и, главное, бессмертными. А взрослые часто живут в аду…».
Лев Саксонов-книжный график поставил перед собой практически нерешаемую задачу: в иллюстрации к в высшей степени конкретному тексту избежать любой конкретики: «в моих иллюстрациях к Данте хотя и появляется космос, но его немного. И еще: мне не интересны истории конкретных людей… я шел от общего настроения в каждой сцене».
Цикл его иллюстраций к «Божественной комедии» хочется назвать в высшей степени и со всех сторон свободным от любого рода рамок и условностей. Иллюстрации делались не по заказу издателя, не должны были сложиться (и не сложились!) в хронологический ряд внутри книги, не получили жесткой привязки к тексту. Мастер работал над ними в течение полутора десятилетий в несколько этапов, периодически возвращаясь к оставленной иногда на годы серии. Его не отягощало знакомство с предшествующей многовековой традицией иллюстрирования великого текста – из всех иллюстраторов Данте он знает только Боттичелли и Гюстава Доре (и оба ему не нравятся: «реальные изображения реальных людей» у первого, «выхолощенные, сухие, фальшиво-страшные» гравюры второго). Саксонов очень точно определяет для себя жанр дантовского текста (избегая – но вряд ли сознательно – слов «видение», «визионер» и соответствующих аллюзий): «Данте приснился грандиозный сон о загробном мире». Данте для Саксонова – сновидец, как и он сам («Я – король. Мои подданные – это сны, сонмы снов. Но, может быть, я ошибаюсь, и подданный их – это я.»). Жанр его иллюстраций соответствует жанру текста – это иллюстрация сна, его зыбкого пейзажа, неясной среды, в которой внезапно проступают конкретные, но фрагментированные образы. Этот жанр мастеру хорошо знаком, он воплощен в авторской серии «Сны» – бессюжетной, но богатой ассоциациями.
Каким же получился этот опыт иллюстрации загробного видения «с нуля»? Прежде всего – саксоновская серия прямо противоположен традиционному (и во многом предопределенному текстом) способу иллюстрировать Божественную комедию в привязке к топографическим реалиям дантовского загробного мира. В самом деле, уже в первых списках поэмы в середине XIV века можно видеть весь загробный мир Данте как схему – одновременно разрез и карту – круги Ада, ступени горы Чистилища, сферы небес Рая. В фресковых «Страшных судах» итальянского Проторенессанса мы узнаем дантовскую структуру кругов Ада. Боттичелли очень внимателен к конфигурации адских разломов и посвящает отдельную страницу цикла детальному изображению адской воронки в разрезе со всеми деталями, его современник, автор миниатюр «Урбинского Данте» Гуильельмо Джирарди подробно показывает, как именно выбираются Данте и Вергилий из адской пропасти с обратной стороны Земли рядом с торчащими из нее мохнатыми и когтистыми лапами Люцифера.
Саксонов идет от обратного: сон никогда не бывает структурным. Его интересует не архитектура и топография загробного мира, а свойства среды и характеристики поверхностей. Небольшой ряд из листов-триптихов (Ад-Рай-Чистилище) наполнен еще относительно узнаваемыми образами, напоминающими иногда профили Одилона Редона, иногда летящих влюбленных Шагала, но в основной части серии – почти квадратных, сделанных в комбинированной технике композициях – тема легких сонных видений сменяется почти полной нефигуративностью. Данте, описывая скульптурные рельефы на склоне горы Чистилища, говорит о «visibile parlare», «зримой речи». Саксоновский цикл – речь не совсем зримая, скорее осязаемая, тактильная. Его листы почти монохромны, заполнены сложно нюансированным цветом – воздухом загробного мира. Сквозь эту с физиологической точностью охарактеризованную среду местами проступают узнаваемые образы, всегда фрагментированные, иногда складывающиеся в сквозные темы. В листах, посвященных Аду (хотя, оговоримся, трудно – да и не нужно -- жестко привязывать конкретный лист серии к конкретному сюжету) это сама среда тьмы – плотный, глухой, темный от густо-серого до почти черного воздух, в котором порой прочитываются силуэты адских стражей-чудовищ – Цербера, Гериона. угадываются искаженные или безжизненные лица грешников. Сквозь него пробиваются красные сполохи огней города Дита («встают его мечети, пламенея»), подобные пятнам крови на штукатурке. Периодически возникает узнаваемая по серии «Сны» тема большого города, невнятных силуэтов многоэтажных домов, переходов, провалов, закоулков, подобных камерам в «Тюрьмах» Пиранези. Поверхность листов, посвященных Чистилищу и подступам к Раю, напоминает светлый целомудренно-серый мрамор или пронизанный таким же бледно-серым холодным светом туман, постепенно наполняющийся красками спектра. Он прорезан ступенями, по которым поднимаются в мучительном, но настойчивом движении вверх силуэты грешников и время от времени прочитываются крылья направляющих их вождей-ангелов. На подступах к Раю включается цвет – оранжевые отблески стены огня, через которую нужно пройти визионеру, изумрудная зелень лужайки Земного Рая и радужные блики двух рек – Леты забвения и Эвнои сладостного воспоминания с порхающими над ними золотистыми бликами праведных душ. В Раю хороводы праведников вращаются среди наполненного бледным рассветным сиянием воздуха, стягиваются к лазурной воронке – Перводвигателю?. Впрочем, не будем увлекаться вчитыванием в образы Саксонова конкретного содержания – сон остается сном, его образы сознательно неясны, невнятны, как услышанные во сне стихотворные строки – «Так шум пролетающих стай коллекционирует небожитель».
17 января 2024
Льву Саксонову-читателю с Данте очень повезло. Он воспринял текст Божественной Комедии просто, непосредственно, без предварительной подготовки, с чистого листа, и сознательно не интерпретировал, не нагрузил ничем, кроме общечеловеческого опыта: «Я думаю, что и ад, и рай Данте – это земные реалии: и взрослые бывают беспредельно счастливы (редко, конечно), и дети… живут в раю: они открывают мир, они чувствуют себя защищенными и, главное, бессмертными. А взрослые часто живут в аду…».
Лев Саксонов-книжный график поставил перед собой практически нерешаемую задачу: в иллюстрации к в высшей степени конкретному тексту избежать любой конкретики: «в моих иллюстрациях к Данте хотя и появляется космос, но его немного. И еще: мне не интересны истории конкретных людей… я шел от общего настроения в каждой сцене».
Цикл его иллюстраций к «Божественной комедии» хочется назвать в высшей степени и со всех сторон свободным от любого рода рамок и условностей. Иллюстрации делались не по заказу издателя, не должны были сложиться (и не сложились!) в хронологический ряд внутри книги, не получили жесткой привязки к тексту. Мастер работал над ними в течение полутора десятилетий в несколько этапов, периодически возвращаясь к оставленной иногда на годы серии. Его не отягощало знакомство с предшествующей многовековой традицией иллюстрирования великого текста – из всех иллюстраторов Данте он знает только Боттичелли и Гюстава Доре (и оба ему не нравятся: «реальные изображения реальных людей» у первого, «выхолощенные, сухие, фальшиво-страшные» гравюры второго). Саксонов очень точно определяет для себя жанр дантовского текста (избегая – но вряд ли сознательно – слов «видение», «визионер» и соответствующих аллюзий): «Данте приснился грандиозный сон о загробном мире». Данте для Саксонова – сновидец, как и он сам («Я – король. Мои подданные – это сны, сонмы снов. Но, может быть, я ошибаюсь, и подданный их – это я.»). Жанр его иллюстраций соответствует жанру текста – это иллюстрация сна, его зыбкого пейзажа, неясной среды, в которой внезапно проступают конкретные, но фрагментированные образы. Этот жанр мастеру хорошо знаком, он воплощен в авторской серии «Сны» – бессюжетной, но богатой ассоциациями.
Каким же получился этот опыт иллюстрации загробного видения «с нуля»? Прежде всего – саксоновская серия прямо противоположен традиционному (и во многом предопределенному текстом) способу иллюстрировать Божественную комедию в привязке к топографическим реалиям дантовского загробного мира. В самом деле, уже в первых списках поэмы в середине XIV века можно видеть весь загробный мир Данте как схему – одновременно разрез и карту – круги Ада, ступени горы Чистилища, сферы небес Рая. В фресковых «Страшных судах» итальянского Проторенессанса мы узнаем дантовскую структуру кругов Ада. Боттичелли очень внимателен к конфигурации адских разломов и посвящает отдельную страницу цикла детальному изображению адской воронки в разрезе со всеми деталями, его современник, автор миниатюр «Урбинского Данте» Гуильельмо Джирарди подробно показывает, как именно выбираются Данте и Вергилий из адской пропасти с обратной стороны Земли рядом с торчащими из нее мохнатыми и когтистыми лапами Люцифера.
Саксонов идет от обратного: сон никогда не бывает структурным. Его интересует не архитектура и топография загробного мира, а свойства среды и характеристики поверхностей. Небольшой ряд из листов-триптихов (Ад-Рай-Чистилище) наполнен еще относительно узнаваемыми образами, напоминающими иногда профили Одилона Редона, иногда летящих влюбленных Шагала, но в основной части серии – почти квадратных, сделанных в комбинированной технике композициях – тема легких сонных видений сменяется почти полной нефигуративностью. Данте, описывая скульптурные рельефы на склоне горы Чистилища, говорит о «visibile parlare», «зримой речи». Саксоновский цикл – речь не совсем зримая, скорее осязаемая, тактильная. Его листы почти монохромны, заполнены сложно нюансированным цветом – воздухом загробного мира. Сквозь эту с физиологической точностью охарактеризованную среду местами проступают узнаваемые образы, всегда фрагментированные, иногда складывающиеся в сквозные темы. В листах, посвященных Аду (хотя, оговоримся, трудно – да и не нужно -- жестко привязывать конкретный лист серии к конкретному сюжету) это сама среда тьмы – плотный, глухой, темный от густо-серого до почти черного воздух, в котором порой прочитываются силуэты адских стражей-чудовищ – Цербера, Гериона. угадываются искаженные или безжизненные лица грешников. Сквозь него пробиваются красные сполохи огней города Дита («встают его мечети, пламенея»), подобные пятнам крови на штукатурке. Периодически возникает узнаваемая по серии «Сны» тема большого города, невнятных силуэтов многоэтажных домов, переходов, провалов, закоулков, подобных камерам в «Тюрьмах» Пиранези. Поверхность листов, посвященных Чистилищу и подступам к Раю, напоминает светлый целомудренно-серый мрамор или пронизанный таким же бледно-серым холодным светом туман, постепенно наполняющийся красками спектра. Он прорезан ступенями, по которым поднимаются в мучительном, но настойчивом движении вверх силуэты грешников и время от времени прочитываются крылья направляющих их вождей-ангелов. На подступах к Раю включается цвет – оранжевые отблески стены огня, через которую нужно пройти визионеру, изумрудная зелень лужайки Земного Рая и радужные блики двух рек – Леты забвения и Эвнои сладостного воспоминания с порхающими над ними золотистыми бликами праведных душ. В Раю хороводы праведников вращаются среди наполненного бледным рассветным сиянием воздуха, стягиваются к лазурной воронке – Перводвигателю?. Впрочем, не будем увлекаться вчитыванием в образы Саксонова конкретного содержания – сон остается сном, его образы сознательно неясны, невнятны, как услышанные во сне стихотворные строки – «Так шум пролетающих стай коллекционирует небожитель».
17 января 2024
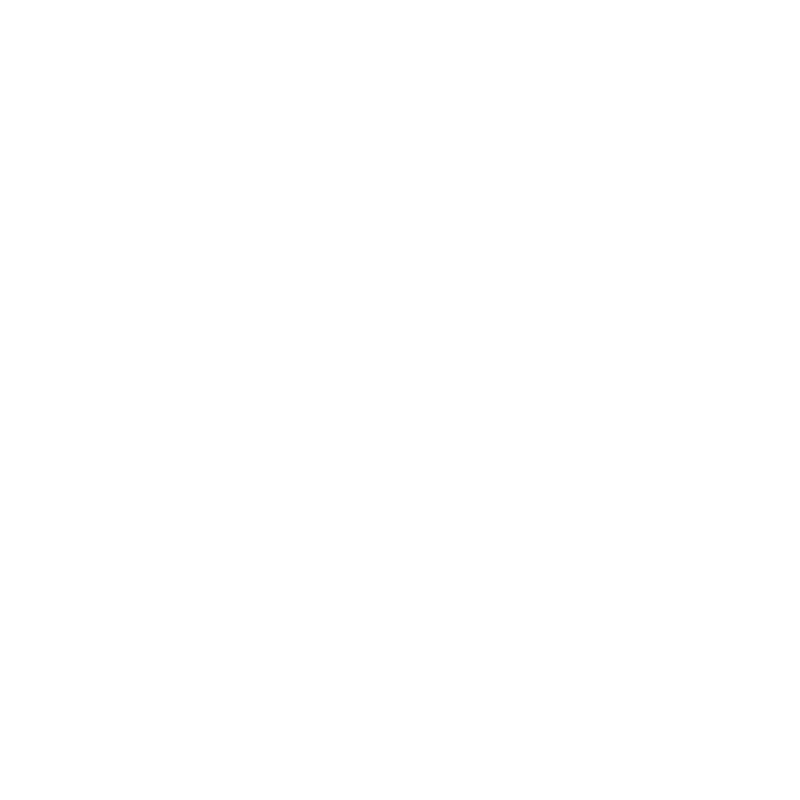
Даниил Саксонов
Вся музыка мира
Читая книгу "Темы и иллюстрации", сделал еще одно наблюдение и умозаключение по поводу творчества отца.
Он говорит о некой концентрации вселенной в локальном и видимом пространстве: “Как будто вся музыка мира обрушилась на это, на овсяное, на единственное поле”.
Так полно и так всеобъятно проживается встреча с овсяным полем, улочкой, некрашеными домиками, полуразрушенной и проросшей зелеными ветками колокольней, белыми, тающими в воздухе одуванчиками, так полно и всеобъятно, что они начинают просвечиваться и, не теряя трепетной, живой, фотографически точно запечатленной плоти, вбирают стихию, рвущуюся за границы листа, обретают космический масштаб и одновременно хрупкую, причудливую реальность сна.
17 января 2023
Он говорит о некой концентрации вселенной в локальном и видимом пространстве: “Как будто вся музыка мира обрушилась на это, на овсяное, на единственное поле”.
Так полно и так всеобъятно проживается встреча с овсяным полем, улочкой, некрашеными домиками, полуразрушенной и проросшей зелеными ветками колокольней, белыми, тающими в воздухе одуванчиками, так полно и всеобъятно, что они начинают просвечиваться и, не теряя трепетной, живой, фотографически точно запечатленной плоти, вбирают стихию, рвущуюся за границы листа, обретают космический масштаб и одновременно хрупкую, причудливую реальность сна.
17 января 2023
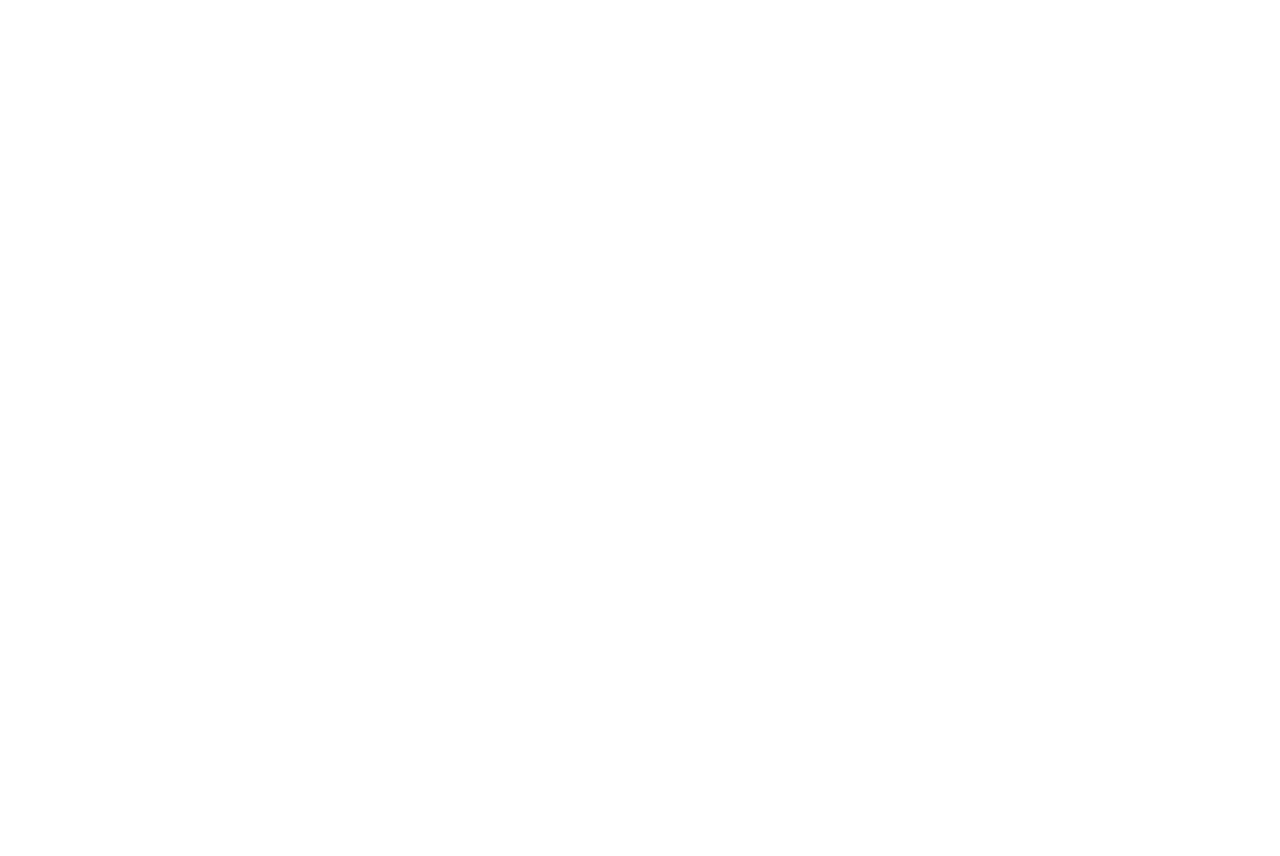
Даниил Саксонов
И я стану "вечереет"...
на полях книги Льва Саксонова "Темы и вариации"
Продолжил читать и конспектировать папину книгу “Темы и иллюстрации”, где соединены его картины и его тексты. Обратил внимание на фрагменты, в которых вглядывание в обыкновенный пейзаж, само вглядывание порождает немыслимую красоту. И продолжается это вглядывание желанием раствориться в объектах неживой природы, отдать им душу.
“Смотришь и не можешь налюбоваться на эти некрашенные серые дома с фантастически прекрасным резным орнаментом вокруг окон, на карнизах, на крыше. И душа становится окном, обрамленным деревянными резными ставнями”.
И вот еще более подробно описанный процесс этого вглядывания с развоплощением, из которого рождается до дрожи реальное и одновременно метафизическое, узнаваемо внешнее и безмерно внутренее пространство картин отца: “Я подустал, сойду, наверное, на дальнем полустанке. Тропинка, прерываемая лужами, тянется от единственного станционного домика через поле в лес, рассинённый дождиком. Дождик мелкий, почти невидимый, лижет лужи, и вода в них чуть вздрагивает. И я стану тропинкой, и я стану “вечереет” [...] - всем, неощущающим себя”.
15 января 2023
Продолжил читать и конспектировать папину книгу “Темы и иллюстрации”, где соединены его картины и его тексты. Обратил внимание на фрагменты, в которых вглядывание в обыкновенный пейзаж, само вглядывание порождает немыслимую красоту. И продолжается это вглядывание желанием раствориться в объектах неживой природы, отдать им душу.
“Смотришь и не можешь налюбоваться на эти некрашенные серые дома с фантастически прекрасным резным орнаментом вокруг окон, на карнизах, на крыше. И душа становится окном, обрамленным деревянными резными ставнями”.
И вот еще более подробно описанный процесс этого вглядывания с развоплощением, из которого рождается до дрожи реальное и одновременно метафизическое, узнаваемо внешнее и безмерно внутренее пространство картин отца: “Я подустал, сойду, наверное, на дальнем полустанке. Тропинка, прерываемая лужами, тянется от единственного станционного домика через поле в лес, рассинённый дождиком. Дождик мелкий, почти невидимый, лижет лужи, и вода в них чуть вздрагивает. И я стану тропинкой, и я стану “вечереет” [...] - всем, неощущающим себя”.
15 января 2023